-
Публикации
1327 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Previous Fields
-
Обращение
как удобно
Profile Information
-
Пол
Male
-
Location
BAKU
-
Interests
Ремонт кондиционеров: 051 961 03 90
-
-
Мохнатый Шмель
Посетители профиля
Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям
_Zaman_'s Achievements
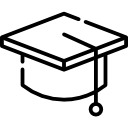
Выпускник (5/19)
0
Репутация
-
Кавказ как испытательный полигон империи: угнетённые народы и почему это важно сегодня Тамерлан Ибрагимов Израильский политолог, историк, эксперт по Кавказу Авраам Шмулевич рассказал в беседе с Minval Politika об исторических этапах завоевания Россией Кавказа, а также о современных эпизодах, методах уничтожения исторической памяти и самоидентичности кавказских народов. Народы Кавказа. Геноцид России. Черкесы Идеального «рейтинга жертв» с точки зрения угнетения кавказских народов не существует. Разные народы Кавказа сталкивались с разными формами насилия и давления в разные периоды. Но есть несколько групп, история которых объективно особенно тяжёлая по масштабу потерь, глубине травмы и длительности конфликта. Это, в первую очередь, адыги (черкесы, включая убыхов и часть абхазов), чеченцы, народы Восточного Кавказа, прежде всего некоторые общества Дагестана, ногайцы. Для адыгов Кавказская война закончилась катастрофой, которую многие исследователи называют геноцидом. Огромная часть населения черкесских областей была либо физически уничтожена, либо насильственно вытеснена в Османскую империю. Сотни деревень были сожжены, земли переданы казакам и переселенцам из внутренних губерний. Люди массово гибли от голода, болезней и во время депортации. Это не просто «эпизод завоевания», а фундаментальная травма, которая до сих пор определяет отношение многих народов к российскому государству, формирует диаспоры в Турции, на Ближнем Востоке и в других странах. В ходе многолетнего покорения Кавказа царская Россия применила крайне жестокие методы против местных народов. Наибольшему угнетению подверглись, прежде всего, горские народности Северного Кавказа, сопротивлявшиеся имперской экспансии. Яркий пример — черкесы (адыги), против которых велась затяжная Кавказская война (1763–1864), завершившаяся фактическим геноцидом черкесского народа. 95–97 % черкесского населения было либо убито, либо насильно выселено с родных земель к 1864 году. Российские войска методично уничтожали аулы, вырезали мирное население и выдавливали уцелевших людей в Османскую империю. В результате этих массовых депортаций и убийств черкесы как этнос оказались на грани исчезновения: из нескольких миллионов в родных краях к концу войны на территории Кавказа остались лишь считанные десятки тысяч. Абхазы, чеченцы В Абхазии после подавления восстаний и высылок под предлогом поддержки Турции численность абхазов сократилась на 60 % к концу XIX века. Современники прямо называли эту расправу «очищением» края от горцев. Российская империя сознательно «очищала» завоёванные области от «неблагонадёжных» коренных народов и заселяла их лояльным населением — например, казаками и русскими крестьянами. Чеченцы и многие дагестанские общества в течение десятилетий жили в условиях почти постоянной войны. Здесь применялись классические методы колониальной войны: карательные экспедиции и «зачистки» аулов, сожжение посевов и домов, взятие заложников, коллективные наказания за сопротивление, конфискация земель и создание казачьей пограничной линии, которая резала традиционные хозяйственные и семейные связи. Ногайцы Отдельного внимания заслуживает судьба ногайцев. После ликвидации Ногайской орды и включения Россией Северного Причерноморья и Северного Кавказа в конце XVIII века именно они стали одной из первых жертв масштабной колониальной политики. В 1770–1790-е годы ногайские орды были фактически разрушены: значительная часть ногайского населения погибла во время подавления выступлений, а остальные были вынуждены уйти или были насильственно вытеснены в Османскую империю, главным образом в Добруджу, Анатолию и Болгарию. Российская администрация последовательно перекрывала традиционные кочевые маршруты, ликвидируя базу ногайского скотоводства и передавая их пастбища русским и украинским переселенцам, а также черноморским и линейным казакам. Ногайская родовая знать понесла тяжёлые потери: многие бии и мурзы были уничтожены во время карательных операций, тогда как оставшихся представителей элиты империя интегрировала в собственные военные и административные структуры, включая казачьи формирования. В результате этих процессов ногайцы были лишены своей исторической территории и политической субъектности на Кавказе, а их общество оказалось разорванным, частично рассеянным по Османской империи. Казаки Стоит упомянуть и казаков. Их, как и ногайцев, реже вспоминают при перечне репрессированных народов. Донские казаки также пережили тяжёлые репрессии со стороны российского государства. После Булавинского восстания (1707–1709), подавленного Петром Первым крайне жестокими мерами (фактически это был геноцид, его можно назвать первым геноцидом Российской империи при продвижении на Кавказ), российская власть начала системное ограничение казачьего самоуправления. В течение XVIII–XIX веков автономия Донского войска была постепенно сведена к минимуму: атаманы оказались под прямым контролем имперской администрации, а само казачество превратилось в инструмент государственной военной службы и пограничной политики. Эти процессы фактически лишили донских казаков прежнего статуса самостоятельного политического сообщества и встроили их в структуру империи как служилое сословие. После революции 1917 года донские казаки столкнулись с новой волной репрессий, на этот раз со стороны советской власти. В 1919 году большевистское руководство провозгласило курс на «расказачивание» — социально-карательную кампанию, направленную против казачества как опоры антибольшевистских сил. На Дону, Кубани и Тереке проводились массовые операции ВЧК и частей Красной армии: станицы подвергались разоружению, реквизициям и изгнанию, часть населённых пунктов была разрушена, значительное число казаков расстреляно по обвинениям в контрреволюции. Десятки тысяч людей были депортированы в центральные районы России или объявлены «лишенцами» — лицами, лишёнными гражданских прав. К середине 1920-х годов традиционная казачья система самоуправления была полностью ликвидирована, а казачество как сословие перестало существовать. В 1930-е годы дополнительным ударом стали коллективизация и раскулачивание, которые особенно тяжело затронули именно казачьи районы. В итоге казачьи общины были лишены прежней социальной структуры, земельной базы, населения и культурной автономии, а их политическое влияние сведено к минимуму. Сталин. Трансформация подчинения В уже «мирное» имперское время, после окончательного завоевания Кавказа, давление на кавказцев не исчезло, а трансформировалось. Кавказские народы лишались политической субъектности, их традиционные институты подчинялись военной и чиновничьей администрации. Власть играла на противоречиях между народами, опиралась на «лояльные» группы (например, часть осетинской и грузинской элиты) против более непокорных соседей. В XX веке к этим практикам добавились советские формы насилия. В сталинский период особенно тяжёлые удары пришлись на: чеченцев и ингушей, карачаевцев, балкарцев, часть народов Дагестана, месхетинских турок и ряд других групп, живших на южных склонах Кавказа. Кульминацией стали депортации 1943–1944 годов, когда целые народы были объявлены «коллективно виновными» и в течение нескольких дней отправлены в Среднюю Азию и Сибирь. Ликвидировались автономии, расформировывались национальные институты, переименовывались территории, кавказские сёла передавались соседним регионам. Смертность в пути и в первые годы выселения была огромной. Так называемый рейтинг Таким образом, если говорить о тех, кто «больше остальных» пострадал именно от прямого насилия и политики коллективной ответственности, то чаще всего историки называют: адыгов (черкесов), чеченцев и ингушей, карачаевцев и балкарцев, ногайцев, часть горных народов Дагестана. Но важно помнить, что имперский и советский режимы давили практически на все кавказские народы, включая грузин, армян и азербайджанцев. Курс на полную русификацию После завоевания кавказских территорий российские власти стремились не только военно-политически подчинить народы, но и сломать их национальную память и самоидентификацию. Одним из ключевых методов стала насильственная русификация: навязывание русского языка, культуры и административных норм, вытеснение местных элит и традиций. Уже в XIX веке царская администрация ограничивала употребление родных языков и ликвидировала автономные институты на Кавказе. Например, в Грузии в 1811 году была упразднена автокефалия Грузинской православной церкви, что подорвало важнейший институт национальной идентичности. К концу XIX века преподавание на грузинском языке в школах стало необязательным, и оно постепенно вытеснялось русским. Грузинская и армянская интеллигенция сталкивалась с цензурой: газета «Иверия» Ильи Чавчавадзе неоднократно закрывалась властями и была окончательно запрещена в 1906 году. В Армении попытки ослабить национальную церковь проявились особенно резко в 1903 году, когда императорским указом началась конфискация имущества Армянской апостольской церкви, вызвавшая массовые протесты по всему Южному Кавказу. В Азербайджане, где после Гюлистанского (1813) и Туркманчайского (1828) договоров царизм ликвидировал ханства и их управленческие структуры, местная элита также была подавлена: ханские династии были отправлены в отставку или выведены из власти, религиозные институты попадали под полный контроль администрации, а школьное обучение переводилось на русский язык. К концу XIX века большинство городских и уездных школ в Бакинской и Елизаветпольской губерниях работали преимущественно на русском, что постепенно вытесняло азербайджанский язык из сфер образования и официальной культуры. Во всех закавказских губерниях школы, не согласные переходить на русскую программу, теряли финансирование или закрывались, что отражало общий имперский курс на подавление национальных культур и формирование лояльного империи населения. Методы Здесь важно разделить несколько уровней политики, которые повторяются от империи к СССР, а затем к современной России. Военный и демографический уровень – Насильственное переселение и депортации. После окончания Кавказской войны значительная часть адыгского населения была вытеснена за пределы империи. В сталинскую эпоху депортации приняли форму тотальной коллективной кары; – изменение этнической карты. Земли выселенных или частично истреблённых народов заселялись казаками, русскими и украинскими крестьянами, представителями других лояльных групп. Это ломало традиционные социальные структуры и делало невозможным восстановление прежней жизни. Административно-территориальные манипуляции – ликвидация и укрупнение национальных автономий, произвольное изменение границ; – передача исторически значимых территорий другим регионам, что размывало связь народа с его пространством; – создание «мозаичных» административных единиц, где один народ оказывался в меньшинстве и зависел от центра или соседей. Языковая политика и образование – имперский этап: сеть русских школ, где местные языки либо игнорировались, либо воспринимались как помеха. Русский язык был обязательным для карьеры, доступа к власти и образованию; – советский этап: вначале политика коренизации и поддержка национальных языков, но уже с конца 1930-х — постепенное свёртывание, перенос ключевых уровней образования на русский, доминирование русскоязычного пространства в городах; – во всех периодах двор, армия, чиновничий аппарат были русскоязычными, и это делало ассимиляцию единственной дорожкой наверх для значительной части местной элиты. Контроль над религией и культурой – в империи: подчинение мусульманских институтов государству, попытки поставить улемов и кадиев под контроль, миссионерская деятельность, ограничение влияния внешних центров (Османской империи, арабского Востока); – в СССР: закрытие мечетей и церквей, репрессии против духовенства, уголовное преследование религиозной практики. Для кавказских народов, где ислам и христианство были важнейшими маркерами идентичности, это означало удар по самой основе коллективной памяти. Переписывание истории и топонимики – замена исторических названий городов, сёл, гор, рек на «нейтральные» или русские; – создание официального нарратива, где Кавказская война подавалась как «освободительная» и «цивилизаторская» миссия, а сопротивление горцев — как «разбой» и «фанатизм»; – в советское время депортации и репрессии либо замалчивались, либо объяснялись якобы «предательством» целых народов. Тема черкесской трагедии, например, практически полностью исчезала из публичного поля. Работа с элитой и внутренняя колонизация – воспитание новой кавказской элиты в российских и советских центрах, часто в отрыве от народной среды; – привязка карьеры и благополучия элиты к лояльности центру, а не к интересам собственного народа; – создание слоя людей, которые одновременно представляют «местных» и зависят от федеральной власти, вынуждены объяснять своему обществу политику, на которую сами не влияют. Всё это не всегда выглядело как прямой запрет на язык или традиции. Часто достаточно было сделать так, чтобы без русского языка, без лояльности центру, без отказа от «слишком острых» вопросов о прошлом человек просто не мог нормально жить, учиться и работать. Это мягкая форма лишения идентичности, но от этого она не менее эффективна. «Угроза единству России» и репрессии сегодня Мы видим не копию имперских и сталинских практик, а их переработанную, более «современную» версию. Во-первых, это политическая архитектура. Формально Россия остаётся федерацией с национальными республиками, но реальная автономия этих регионов минимальна. Главы республик фактически назначаются из центра, региональные парламенты и суды не обладают независимостью. Это продолжение старой логики: Кавказ признаётся особым, но не субъектным. Во-вторых, это информационная и образовательная политика. – В школьных учебниках по истории повторяется имперский нарратив о «присоединении» Кавказа, о «миротворческой» роли России; – темы черкесской трагедии, депортаций кавказских народов, жестокости Кавказской войны и чеченских кампаний 1990-х представлены крайне сглаженно или вообще выносятся за рамки; – любые попытки говорить о геноциде, праве на память, пересмотре статуса памятников имперским военачальникам легко попадают под ярлык «экстремизма», «угрозы единству России». В-третьих, это продолжение практики управляемого национализма. – Федеральная власть допускает и поощряет имперский, великодержавный дискурс, в котором «цивилизаторская» миссия России на Кавказе подаётся как источник гордости; – одновременно любой самостоятельный национальный проект в кавказских республиках жёстко ограничивается. Всплески протеста, будь то религиозные, социальные или национальные, подавляются преимущественно силовыми методами. Согласно постсоветской политике памяти, осуществлялся отказ признать и осмыслить черкесскую трагедию, половинчатое и выборочное признание сталинских репрессий, маргинализация голоса кавказских обществ в общероссийской дискуссии о прошлом. В путинский период наблюдаются репрессии против национальных и религиозных активистов, усиление русификации, ликвидация остатков местного самоуправления, экономическое принуждение к эмиграции с Кавказа, использование кавказцев как «пушечного мяса» в войне против Украины. Пока эти сюжеты остаются либо замалчиваемыми, либо подменяются удобными мифами о «добровольном присоединении» и «братстве народов», Россия неизбежно будет воспроизводить старые имперские схемы. Кавказ в таком случае продолжит быть не партнёром, а территорией, которую пытаются контролировать через силовые и символические практики. Создание удобной среды и эксплуатация стереотипов Чеченские войны конца XX века стали травмой нового уровня. Там снова была применена логика коллективной ответственности: «зачистки», фильтрационные лагеря, массовые нарушения прав человека. Итогом стало создание крайне жёсткого регионального режима, который официально демонстрирует абсолютную лояльность Москве и при этом сохраняет высокий уровень насилия внутри. Наконец, есть и более «мягкие» формы. – Экономическая зависимость регионов от федерального бюджета делает их уязвимыми к любым политическим колебаниям; – массовый отток молодёжи с Кавказа в крупные российские города создаёт ситуацию, когда многие молодые люди социализируются в среде, где их культура и язык воспринимаются как «экзотика» или проблема; – в медиа и поп-культуре кавказцы часто появляются либо в образе угрозы, либо в роли декоративной «этники», но крайне редко — как полноценные субъекты со своей сложной историей и голосом. Всё это означает, что историческая память кавказских народов о войнах, депортациях и унижениях существует, но она вытесняется на периферию общественного пространства. Она живёт в семейных рассказах, локальных практиках памяти, диаспорах за пределами России, но почти не имеет легитимного места в официальном дискурсе.
-
Он НАЧАЛ танцевать, когда РАССЁК лоб Физиеву, но БЫСТРО превратился в балерину
-
Игра Москвы переходит красную линию. Ответ Баку будет болезненным Максуд Салимов На протяжении последних лет Кремль последовательно, но безуспешно пытается разыгрывать так называемые «талышскую» и «лезгинскую» карты в Азербайджане. Эти попытки принимали разные формы — от мероприятий на территории Российской Федерации до публикаций в подконтрольных государству медиа, где искусственно конструировалась риторика «проблем меньшинств». Подобная стратегия не нова. Она опирается на устаревшее представление о том, что этничность может быть использована как рычаг давления на государство. Однако реальность давно разрушила эту модель. Недавно радикальными кругами в России, находящимися под прямой или косвенной опекой Кремля, был распространён доклад, в котором отдельный раздел посвящён так называемой «талышско-лезгинской проблематике» в Азербайджане. В документе предпринимается попытка представить талышей и лезгин как системно угнетаемые меньшинства, а политику Азербайджана в сфере межэтнических отношений — как «сознательно ассимиляционную и репрессивную», якобы формирующую предпосылки внутренней нестабильности. Этнический фактор при этом прямо обозначается авторами как «потенциальный инструмент политического воздействия на Баку». Методология доклада вызывает серьёзные сомнения: подбор источников носит откровенно селективный характер и опирается преимущественно на политически ангажированные ресурсы и маргинальные интерпретации. Вместо верифицируемых данных используется эмоционально нагруженная риторика — от спекуляций на теме «пыток» до алармистских формул об «исчезновении народов». Цель подобного подхода очевидна: сконструировать образ Азербайджана как государства, «подавляющего национальные меньшинства», с тем чтобы создать основу для внешнего политического давления и попыток легитимации вмешательства во внутренние дела страны под гуманитарным предлогом. И если в начале 90-х, когда Азербайджан только обрёл независимость, вставал, «шатаясь на ногах», не видя чётких контуров независимого пути, когда страна со всех сторон была уязвима, когда Армения при поддержке России оккупировала 20% территории нашей страны, подобные заявления, направленные на дестабилизацию ситуации в стране, звучали угрожающе, то с тех пор многое изменилось. Азербайджан укрепил свои позиции, а Отечественная война в Карабахе стала институциональным тестом на прочность азербайджанского общества — и этот тест был пройден. В условиях экзистенциальной угрозы страна продемонстрировала не фрагментацию, а консолидацию. Граждане разных этнических и религиозных групп выступили как единое политическое сообщество, объединённое не происхождением, а лояльностью государству и любовью к Родине. Именно это и опровергло всю кремлёвскую риторику: никакой «внутренней проблемы» не существовало и не существует. И, видимо, в России продолжают жить вчерашним днём, полагая, что Москва продолжает оставаться центром объединения земель, расширяющим свою государственную власть на соседние страны, если поручили скандальному пропагандисту Владимиру Соловьёву столь «ответственное» дело. Напомним, что совсем недавно Соловьёв призывал к действиям, разжигающим межнациональную рознь, возбуждающим ненависть и вражду. Более того, пропагандист призывал к террору в эфире передачи «Полный контакт». Но самое смешное, что в ответ на столь абсурдное заявление российского пропагандиста азербайджанские лезгины сняли и распространили видеокадры, на которых просили посторонних «не спасать их» от спокойной и мирной жизни на исторической, процветающей родине, от любви и взаимного уважения народов друг к другу. Почему-то там, за пределами Азербайджана, некоторым силам очень хочется видеть народы нашей страны разрозненными и обозлёнными друг на друга. Однако у стратегического терпения есть предел. Азербайджан не намерен молча наблюдать за деструктивной политикой других стран, направленной на подрыв его внутренней устойчивости. Если Москва не откажется от подобного курса, ей не стоит удивляться ответной реакции. Речь идёт не об эмоциях, а о политической логике: государства, способные защищать себя, всегда отвечают на вызовы. Важно подчеркнуть: у Азербайджана есть реальный и успешный опыт работы в сфере разоблачения неоколониализма и системной дискриминации. Бакинская инициативная группа продемонстрировала, что подобные инструменты работают. Франция и Нидерланды уже столкнулись с последствиями своей политики — и были вынуждены скорректировать поведение. Достаточно вспомнить, как президент Франции был вынужден искать прямой контакт с азербайджанским лидером на саммите Европейского политического сообщества в Албании, пытаясь снизить уровень конфронтации, который был инициирован им же самим. Историческая память также не должна быть избирательной. Российская империя вела классическую колониальную политику, и её история, к сожалению, написана кровью. Азербайджан был одной из жертв этой системы — как и многие другие народы Кавказа. Кстати, на прошлой неделе в Вильнюсе, в Сейме Литвы, прошла международная конференция «Геноцид черкесов в контексте истории и современной политики», организованная Объединённым черкесским советом. Участники напомнили: в 1763–1864 годах царская Россия осуществляла политику этнических чисток в отношении черкесов. Сотни тысяч людей были уничтожены, их земли — опустошены, а выжившие насильственно депортированы. Массовая гибель в изгнании стала продолжением той же трагедии. Признание геноцида было названо вопросом исторической справедливости, а не политической конъюнктуры. От Азербайджана по видеосвязи выступила Аида Эйвазлы Гёктюрк. Она подчеркнула, что геноцид, депортации и подавление коренных народов Кавказа имеют общую природу и являются прямым следствием российской политики — как в прошлом, так и в настоящем. Давление на черкесов и другие народы продолжается и сегодня. Однако черкесы не единственные, подвергшиеся депортации колониальной державой. Та же Россия, которая пытается изобразить из себя поборника справедливости и защитника прав национальных меньшинств, начала Кавказскую войну и захватила часть лезгинских земель, включив их в состав России. После этого на Кавказе неоднократно вспыхивали антироссийские народные восстания. В частности, в 1838 году в Кубинской провинции, где лезгины были недовольны политикой царской администрации и не желали пополнять ряды царских войск. Помимо Кубинской провинции, боевые действия шли также и в Самурской долине. В 1839 году, после поражения объединённых сил горцев в Аджиахурском сражении, русские подавили основные очаги сопротивления. В результате часть лезгин была депортирована, а часть вынуждена была спасаться бегством. В ходе покорения Кавказа царской Россией сотни тысяч мусульман, включая целые племена, бежали в Османскую империю от российского владычества. Эмигрировавшие выходцы из Дагестана осели в Османской империи, где их потомки по сей день составляют кавказскую группу населения. Затем случилось известное восстание 1877 года, когда население Кавказа было недовольно политикой российского царизма. А уже в советский период репрессиям и депортациям подверглись азербайджанцы… И это лишь некоторые из примеров. Геноцид черкесов, Голодомор, насильственные депортации народов в советский период — все эти темы могут и должны быть выведены на международную повестку. У Азербайджана есть инструменты, опыт и политический ресурс для этого. Отдельного внимания заслуживает практика отправки этнических меньшинств — особенно народов Кавказа — на войну. Азербайджану хорошо известно, в каком тяжёлом состоянии сегодня находится этническая ситуация по ту сторону границы. Особое место занимает проблема исламофобии в России. Там, напомним, проживает порядка 20 миллионов мусульман, однако равенство их прав носит сугубо декларативный характер. Масштабы шовинизма хорошо задокументированы. Достаточно вспомнить недавнее резонансное убийство таджикского школьника Кобилджона Алиева в подмосковном Одинцово — преступление, которое власти предпочли представить как «инцидент», несмотря на очевидный контекст ненависти. Если Россия сознательно выбирает путь конфронтации, Азербайджан к этому готов. Но остаётся надежда, что в Москве возобладают не импульсивные, а стратегически мыслящие силы. Они понимают: такая политика не принесёт дивидендов. Более того, в этой сфере арсенал Азербайджана значительно шире и эффективнее. История уже не раз доказывала: государства, игнорирующие пределы допустимого, рано или поздно сталкиваются с последствиями собственного выбора…
-
Полумеры Кремля и незакрытая трагедия: сигнал Баку Москве Максуд Салимов Отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева на неформальном саммите СНГ на первый взгляд выглядит как протокольное решение, обусловленное рабочим графиком. Однако в реальности речь идёт о гораздо более глубинном процессе, затрагивающем фундаментальные принципы межгосударственных отношений, доверия и ответственности в постсоветском пространстве. Политика, в отличие от дипломатического ритуала, редко прощает незавершённые кризисы. Крушение гражданского самолёта AZAL стало не просто трагедией, а институциональным вызовом — проверкой способности государств действовать в рамках признанных норм: признать вину, принести извинения, обеспечить компенсации и привлечь виновных к ответственности. Именно такой алгоритм и был публично заявлен президентом России Владимиром Путиным в Душанбе. Но, как показало время, декларация оказалась оторванной от практики. Прошло почти два с половиной месяца с момента признания факта причастности российской ПВО. Однако ни одно из обязательных действий, которые в современной международной системе считаются минимальным стандартом ответственности, реализовано не было. Следственные процедуры затягиваются, компенсации не выплачены, виновные не названы и не наказаны. Читайте также: 25 декабря: день, когда приказ Толопило уничтожил самолёт AZAL. Minval Politika впервые публикует поминутную хронологию трагедии В этом контексте неучастие Алиева от участия в саммите — не жест эмоциональной дипломатии и не попытка демонстративного давления. Это рациональный сигнал: участие в многостороннем формате невозможно, если базовый кризис в двусторонних отношениях остаётся нерешённым. Политические институты не могут функционировать поверх незакрытых трагедий. Важно подчеркнуть, что проблема не в СНГ как структуре. Азербайджан последовательно демонстрировал готовность к активному участию в этом формате, включая саммит в Душанбе. Более того, Баку за последние годы выстроил устойчивые и прагматичные отношения с Центральной Азией, Арменией и Беларусью. Эти направления развиваются именно потому, что основаны на ясных правилах игры и взаимной ответственности. Остаётся российское направление — и именно оно сегодня является системным исключением. Причина проста: несоответствие между обещанием и действием. В политической философии это всегда ведёт к эрозии доверия. Государства, которые не способны закрывать кризисы по установленным нормам, теряют не только моральный авторитет, но и возможность формировать устойчивые союзы. Позиция Азербайджана в этой ситуации предельно логична. Баку не отказывается от диалога и не разрушает существующие форматы. Напротив, он предлагает чёткую институциональную развилку: либо кризис будет закрыт в соответствии с международной практикой, либо страна продолжит отстаивать свою позицию через международные механизмы. Это не ультиматум, а следование правилам современного политического порядка. Таким образом, неучастие Ильхама Алиева в саммите СНГ — это не пауза в дипломатии, а институциональный сигнал. В мире, где устойчивость государств измеряется их способностью нести ответственность, полумеры больше не работают. Политический порядок не терпит незавершённых трагедий и пустых обещаний. До годовщины трагедии остаются считаные дни, и у Москвы ещё есть время исправить допущенные ошибки — если она действительно намерена действовать так, как «полагается в таких ситуациях».
-
https://www.youtube.com/shorts/-MfSA5ah-Ro


.thumb.jpg.6577e6fe6b15d6f4c3cbfd4eb4843296.jpg)