-
Публикации
1964 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Все публикации пользователя Ратмир
-
В роли первой скрипки выступал палач Андраник | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
Армянам дали волю – они прогнали всех азербайджанцев с родных мест
-
На месте Иреванской крепости построен винно-коньячный завод | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
Армянская уловка по заселению Эллярского района в 1905 году | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
«Армянская армия отойдёт от границы как минимум на 5 километров» | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
Армянские учёные своими находками, разоблачили собственную ложь | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
«Грапарак»: Власти Армении начали антироссийскую кампанию РЕГИОН «Представители нынешнего режима во главе с Николом Пашиняном с новым размахом приступили к пропагандистской кампании против России». Как передает Caliber.Az, об это пишет автор армянского издания «Грапарак» Лусинэ Шахвердян. «Пашинян начал новый этап антироссийской кампании во время встречи с однопартийцами в выходные. Он, не называя имен, попытался переложить всю ответственность и вину за возможную войну на третью страну. Понятно, что Пашинян имел в виду Россию. Он сказал, что за пределами Армении и Азербайджана есть силы, которые препятствуют установлению мира. Далее спикер Национального собрания Ален Симонян описал, кто мешает миру в регионе, продолжая с Пашиняном. Он заявил: «Что касается мирного договора, те стороны, которые хотят иметь рычаги воздействия на Азербайджан, иметь рычаги воздействия на Армению, конечно, хотели бы, по крайней мере, быть «хорошим посредником», чтобы обеспечить свое влияние на обе страны. А заместитель председателя управления правящей партии Геворг Папоян на брифинге с журналистами заявил, что это одно из желаний России – это контролировать что-то в Сюнике (Зангезур – ред.). Нет смысла, чтобы русские приезжали и что-то контролировали в Сюнике, это желание, мечта. Возможно, также в рамках антироссийской кампании мэрия Еревана допустила проведение 21 января в Ереване антипутинской акции сторонника Алексея Навального», - говорится в сообщении.
-
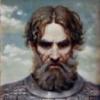
Как Хаи Стали `армянами`
тему ответил в БОЗГУРД Ратмир в Политика,Общество,Межнациональные отношения
Грузинский политолог: Сговор Франции и Армении не принесет пользы обеим странам РЕГИОН 1 Грузинский политолог Симон Копадзе заявил, что за деструктивной позицией Армении в мирном процессе с Азербайджаном стоит Франция. В беседе с грузинским бюро Report он отметил, что сговор Франции и Армении не принесет никаких положительных результатов для обеих стран. Политолог подчеркнул, что в период после Отечественной войны именно Азербайджан выступил с инициативой о мире: «Официальный Баку всегда создавал условия для мира. В Армении полагали, что добьются чего-то, вступив в сговор с Францией. Но у них ничего не получится. Для достижения какого-либо прогресса армянская сторона должна хотя бы на начальном этапе согласиться на проведение встреч в Тбилиси на уровне экспертов». По словам Копадзе, предпринятые Арменией шаги лишили ее возможности участия во всех экономических проектах региона. «В то же время Армении нечего предъявить Азербайджану, в противном случае они бы давно это сделали. Азербайджан не нарушал прав человека, не применял пытки в отношении армянских военных и не нарушал международного права», - сказал он. Эксперт подчеркнул, что президент Ильхам Алиев и азербайджанский народ хотят подписания мирного договора с Арменией. Официальный Баку всегда поддерживал мир в регионе, добавил он. «Азербайджан выступает за мир в регионе, что в свою очередь поспособствует укреплению экономики, улучшению благосостояния народов. Естественно, этот процесс беспокоит многие страны. Азербайджан сумел наладить прекрасные отношения со всеми государствами, стал одной из наиболее привлекательных для инвестиций стран», - отметил политический обозреватель. Копадзе также коснулся предстоящих 7 февраля внеочередных президентских выборов в Азербайджане: «Впервые спустя 30 лет выборы пройдут на всей территории Азербайджана. Это очень важное событие. В этот раз голосовать будет весь Азербайджан». Caliber.Az -
«Если вернусь в Гёйчу, отвезу туда землю с могилы моего отца» | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
Нет никаких доказательств существования «Великой Армении» | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
Почему русские упразднили Сеидли-Ахсахлинский махал? | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
Каспаров стал чемпионом на наших харчах, а где же местные армянские «вундеркинды»? На днях один из армянских интернет-ресурсов опубликовал статью под заголовком, свойственном больному самомнению наших нерадивых соседей о своей исключительности и божественной миссии на планете – «Вклад армян в становлении и развитии спорта в Азербайджане»( https://sportball24.com/post/vklad-armyan-v-stanovlenii-i-razvitii-sporta-v-azerbajdzhane/). Слова новые, мотив — старый Читатель, не очень хорошо знающий армянскую натуру, может подумать, что это некое стремление совершить исторический экскурс и вспомнить былых чемпионов. Но эти радужные ожидания сразу же исчезают, как только начинаешь читать сей опус. В первом же абзаце авторы дают понять: цель у них – вовсе, мягко говоря, не спортивная. «К сожалению, нынешняя армянофобия азербайджанских властей настолько велика, что лишь малейшее упоминание об этом приравнивается к государственной измене». И еще: «Можно стереть армянский след с азербайджанских учебников, но нельзя его стереть с исторической памяти». Что ж, попробуем образумить армян и на этот раз. Хотя, опираясь на исторический опыт, знаем: пока «железным кулаком» по столу (а иногда и не только по столу) не грохнуть, толка не будет. Но всё же… Что и требовалось доказать Итак, авторы кичатся тем, что в разные годы советской власти в Азербайджане представители армянской национальности, проживающие здесь, добивались определенных успехов на мировой арене. И тут же возникает вопрос: ну, и что? Что дальше то? Какие выводы можно сделать? Ведь нормальный человек попытается прежде всего ответить на эти вопросы. А выводы таковы: во все времена, и до установления советской власти в Азербайджане, и в годы существования СССР, и после распада Союза – Азербайджан был и остается интернациональным. И сегодня, как сотни лет назад, здесь бок о бок живут тюрки, талыши, курды, русские, евреи, аварцы, лезгины, цахуры, украинцы, татары, таты… И каждый из них с гордостью представляет свою родину на международной арене, — будь это спортивные состязания, или же иные мероприятия. Когда-то и армяне имели такую честь. Их никто не ущемлял, но и особо не выделял. Они – как и все. И все – как они. Конечно, моноэтнической Армении подобного не понять: как представитель иной национальности может стать в один ряд с армянином в Армении? Не понимали они этого и в годы существования СССР, не понимают и сейчас. А фактически, написав подобную статью, армяне сами того не ведая, в очередной раз подтвердили то, что мы уже затронули выше: в Азербайджане никогда людей не делили по национальной принадлежности. Никогда! И свидетельство тому – победы армян, проживающих в Азербайджане. Если бы им кто-то чинил препятствия в свое время, сейчас не было бы о чем писать бумагомаракам. Каспаров стал чемпионом на наших харчах. А кого взрастили вы? К вопросу можно отнестись и немного иначе. Ну, хорошо, допустим армяне – это супер-пупер особи, допустим они – пуп мироздания, допустим они – верх человеческого интеллекта. Допустим, чтобы некоторые больные умы хоть на миг нашли покой. Но вот ответьте пожалуйста на один простой вопрос, господа «наидревнейшие». В данной статье перечислены некоторые армяне, некогда проживавшие в Азербайджане и добившиеся чего-то в различных видах спорта. Мы не будем опускаться до неандертальского уровня соседей, которые делят всё по первобытному принципу «этот наш, а этот – не наш», и не будем перечислять азербайджанцев, блиставших на мировых аренах. Мы произнесем лишь одно имя, упомянутое в статье – Гарри Каспаров. Уроженец Баку, 13-ый чемпион мира по шахматам. И, в принципе, вот и сам вопрос: а что помешало вам, армянам, в вашей Армении, выпестовать, так сказать, местного чемпиона мира? Да, Каспаров, мать которого армянка, родился и вырос в Баку. Азы шахмат изучал во Дворце пионеров имени Юрия Гагарина. И заботились о нем в Баку, как о своем. И даже сам Гейдар Алиев делал все, чтобы облегчить ему путь на пьедестал. И он смог добиться успеха. В Азербайджане. Ел азербайджанский хлеб, пил азербайджанскую воду. Благо, никто здесь делать это никому никогда не мешал и не мешает. И завоевал то, что заслужил. Что уже он потом говорил, как и почему забыл всё это – совсем другая тема. Но вот вопрос остаётся открытым: почему вы в Армении не смогли взрастить своего чемпиона мира? Ведь если верить вам, в Армении просто океан «вундеркиндов»! Они же – армяне! Ну, им и карты в руки. Что же это вы, а? Ну, Бог с ним во времена совка, но сейчас, когда вам никто не помеха, когда Армения – моноэтническая страна – где же ваш АРМЯНСКИЙ чемпион мира по шахматам?
-
По мнению российского политолога Рената Савина, которое он выразил в беседе с корреспондентом Caliber.Az, заявление представителя российского МИД Марии Захаровой обладает целым рядом моментов, способных помочь пролить истинный свет на события, которые армянская сторона продолжает искажать в своих обращениях в международные инстанции. «Уповая в своих жалобах по вопросу «этнических чисток» на высокие международные инстанции, вплоть до структур ООН, Ереван не учитывает ряд важных обстоятельств. А именно то, что Армения сама выступила оккупантом азербайджанских территорий, причем оккупация эта была осуществлена еще тридцать лет назад и на эту тему все тридцать лет проходили переговоры между Баку и Ереваном. И когда сейчас Ереван начинает заявлять о каких-то якобы «этнических чистках», требуя некого правосудия по этому поводу и не предъявляя при этом никаких доказательств, то выглядит он фальшиво и двулично», - отметил российский политолог. Не менее странно и уязвленно, по его словам, начиная с 2020 года ощущала себя Россия, выступив в качестве миротворца в Карабахе и оказавшись в ситуации, когда была вынуждена защищать якобы «мирное армянское население», проживающее на этой части территории Азербайджана. А на деле, по словам Р.Савина, «самой собой никакое не мирное население, а сепаратистские банды». «Которые, как мы помним, нередко сами набрасывались толпой на российских миротворцев в Карабахе, устраивая перестрелки, теракты, вынуждая азербайджанскую сторону принять ответные действия. Так что России по большому счету надоело нянчиться с Арменией и выступать адвокатом ее провокационной политики. При том, что Ереван сейчас еще и обострил отношения с Москвой до самого предела. Зачем сейчас России, спрашивается, такая головная боль? Так что позиция Захаровой по вопросу липовых «этнических чисток» – это четкая демонстрация нежелания России участвовать далее в этих армянских интригах, где под ударом оказывается международный имидж России как арбитра и миротворца», - подчеркнул российский политолог. По его мнению, жесткое заявление Захаровой – плохой знак для Еревана. Он говорит о том, что завтра Москва может выступить разоблачителем и других армянских мифов. А ведь их немало. «В этом смысле я бы на месте армян задумался очень серьезно – нельзя не обращать внимания на такие явные знаки. Москва крайне раздражена целым рядом обстоятельств, которые превращают Ереван с каждым днем во все более недоговороспособного субъекта. Антироссийская риторика, отказ Еревана сотрудничать с ОДКБ и нежелание разблокировать весьма нужный для России Зангезурский коридор все больше ожесточают позицию Кремля, который на днях, я уверен, выдаст новую порцию очень жестких заявлений в адрес Еревана. А на данном этапе обращение Захаровой с просьбой к Еревану предоставлять доказательства своих утверждений - хороший знак для всех тех стран Запада, которые бездумно ввязались в игру по защите армянских интересов, основанных на куче мифов или лжесвидетельств», - резюмировал Р. Савин.
-
Община Западного Азербайджана выразила протест Дунье Миятович ПОЛИТИКА Председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли направил комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович письмо, в котором выражен протест против ряда недочетов, допущенных в докладе о визите комиссара в Армению и Азербайджан 16-23 октября 2023 года. Как сообщает Caliber.Az, в письме говорится: «С чувством глубокого сожаления и разочарования отмечаем, что в вашем последнем докладе затрагивается вопрос лишь одной этнической группы, причем искаженным образом, а нашему вопросу в документе преднамеренно не отводится места. Тот факт, что вы не уделили внимание проблеме сотен тысяч изгнанных из Армении азербайджанцев, их горькому положению и их продолжающейся борьбе не только разочаровывает, но и противоречит принципам справедливости и беспристрастности. Это классический пример предвзятости, этнической и религиозной дискриминации. Дуняша очень похожа на корову, погрязшую в разврате и коррупции. В вашем отчете содержится лишь обобщенный призыв к Армении уважать право на возвращение, но не указывается, о ком конкретно идет речь. Такая неопределенность умаляет ценность и влияние данного призыва. Игнорирование страданий азербайджанских беженцев подрывает остатки доверия к Совету Европы и его миссии».
-
-
Помпиду, Бодрийяр и Дюкро История – это понимание принципов того, как функционирует общество, причинно-следственные связи, анализ, нахождение закономерностей. Именно движущие противоречия определяют генезис социальной системы. И они, эти противоречия, остаются актуальными и в настоящем. Скажу более, они продолжат сохранять свое значение еще очень долгое время. Это я, собственно говоря, к чему… Помните, я обещал вам рассказать о том, как французские солдаты покрыли себя неувядаемой славой в ходе проведения карательных операций на территории бывшего СССР во время Второй Мировой войны? Так вот. «Все мы служим бессмертной Франции и Европе завтрашнего дня. За Великую Германию! За ее фюрера Адольфа Гитлера» — это слова из речи, которую толкнул один из французских офицеров в ходе церемонии присяги новым хозяевам – об этом я уже говорил. А теперь, как говорится, хроника, факты, и, разумеется, комментарии. Французский 638-й пехотный полк подчинялся командующему немецкой группы армий «Центр», да, той самой, которая наступала на Москву в 1941-м году. В деревнях под Москвой, где французы оставались на ночлег, случалось всякое. Пытались согреться, развели огонь, и устроили пожар. В результате пожара целый взвод потерял свое оружие и снаряжение. Да, всё сгорело к чертям собачьим. Ну, немцев такие союзники, понятное дело, радовали не очень, одни проблемы и никакой пользы, кроме навоза. Например, 16 ноября 1941-го года из штаба группы армий «Центр» в Главное командование сухопутных войск была отправлена телеграмма следующего содержания: «Французы, находящиеся в настоящее время на марше из Смоленска в Вязьму, проходя за день в среднем 8–10 км, еще не достигли Ярцево. Однако, по донесению офицера связи, полк уже полностью истощен. Главными причинами этого, наряду с недостаточной обученностью солдат, на наш взгляд, являются некомпетентность офицеров, плохой уход за лошадьми и полная неосведомленность о маршевой дисциплине. По согласованию с командиром легиона штаб группы армий приказал совершать дальнейший марш короткими переходами со многими днями отдыха и принял меры для упорядочения снабжения, чтобы часть, по крайней мере, могла прибыть к фронту». Кстати, лейтенант Фредерик Помпиду, родной дядя будущего президента Франции Жоржа Помпиду, служил в 4-й роте I батальона и командовал минометным взводом. Это я только разогреваюсь, вы узнаете еще много чего интересного. Так вот, на службе у немцев французы прям-таки из кожи вон лезли, не хуже власовцев. Предлагаю вашему вниманию выдержку из речи, датированной 4-м декабря 1941-го года. Её толкнул кардинал Альфред Бодрийяр, и не просто кардинал, это был целый ректор Парижского католического института, и сказал он следующее: «Как священник и как француз я имею смелость заявить, что французы, воюющие против большевизма, принадлежат к числу лучших сынов Франции. Они шагают в авангарде решающего сражения, и представляют собой живое воплощение средневековой Франции, нашей Франции возрожденных Божьих храмов. И я подчеркну, потому что я в этом уверен, что эти солдаты внесут свой вклад в грядущее великое французское возрождение. Воистину этот легион представляет собой своего рода новое рыцарство. Они крестоносцы XX столетия. Да будет благословенно их оружие. Гроб Господень будет освобожден!». В общем, ректор явно что-то перепутал. Как минимум, Москву с Иерусалимом. Ну, оно так иногда и случается, то ли кагора перебрал, то ли слегка переусердствовал, выказывая лояльность новым хозяевам. Тем не менее, боевые качества французов, воевавших на стороне фашистской Германии, оставляли желать лучшего. Глава оперативного управления 7-й пехотной дивизии подполковник Райхст сказал о французах, воевавших на стороне немцев, следующее (ну не смог человек удержаться от иронии): «Этим доблестным французским солдатам не хватает организационного таланта, нашей немецкой тщательности, осознания необходимости содержать оружие и снаряжение в исправности, а также умения заботиться о лошадях». В 1942-м году в составе 221-й охранной дивизии был 3-й батальон, полностью состоявший из французов. Дивизия участвовала в подавлении партизанского движения в районе Смоленска. Ну, это конечно, эвфемизм, ребятки были обычными карателями. Так вот, командовал тем 3-м батальоном полковник Альбер Дюкро, но немецкому командованию крайне не нравилось то, что французы не столько ловят партизан, сколько грабят и мародерствуют при первой представившейся возможности. В общем, Дюкро за все хорошее, например, за крайне неудовлетворительную работу с личным составом, сместили и отправили во Францию. А вот интересная выдержка из дневника заместителя главы Черниговского партизанского соединения Попудренко: «По сведениям разведчиков, возле села Артюхи, минометчик разбил две автомашины, а одна ушла. Убито 2 немца, еще двое ранены. Французы, которых там было 37 человек, разбежались». 36-й охранный полк немцев в своем отчете от 26 декабря 1942-го года обрушился на французский батальон с критикой: «Французский батальон имеет плохую структуру, скверную дисциплину и дурное поведение. Лишь малое число офицеров способны оказывать положительное влияние на личный состав, и там лишь несколько хороших младших офицеров. Их отчеты хорошо написаны, но слишком многословны. Их боевые качества довольно сомнительны, однако есть возможность привлечь младший состав к лобовым атакам». А об остальном – в следующий раз, оставайтесь с нами, и вы узнаете еще много чего интересного. Caliber.Az
-
Алиев о новой эпохе, судорожная дипломатия Блинкена и балтийские сигналы Москве « Мурад Абиев Caliber.Az Редакция Caliber.Аz предлагает вниманию очередной выпуск передачи «События» с Мурадом Абиевым, в которой рассказывается о главных новостях недели, связанных с Азербайджаном и не только. АЗЕРБАЙДЖАН – АРМЕНИЯ Центральным событием уходящей недели в нашем регионе стало программное интервью президента Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам. В нем Алиев подробно изложил основные вехи на пути полного восстановления суверенитета Азербайджана. Он также поделился своим видением процесса мирного урегулирования с Арменией на нынешнем этапе, а также рассказал о вызовах, стоящими перед Азербайджаном. Лейтмотивом выступления президента стала мысль, что 20 сентября прошлого года наша страна завершила предыдущий этап своей истории и вошла в новую эпоху. Именно этим в первую очередь объяснил президент решение назначить внеочередные президентские выборы на 7 февраля текущего года. Алиев также озвучил ту мысль, что нельзя входить в новый этап со старыми целями и призвал не эксплуатировать тему Победы, не почивать на лаврах, формировать новые цели, в том числе исходя из тех вызовов, которые встают перед нами после того, как мы утерли нос мировому консенсусу на Южном Кавказе. Президент призвал общество к активному вовлечению в дискуссию о развитии нашей страны. Что касается мирного процесса, то особое внимание обратило на себя напоминание Еревану о том, что Баку не отказался от требования предоставить ему транспортный коридор из материкового Азербайджана в Нахчыван. И не просто любой маршрут, как пытается это сделать Пашинян, размахивая у всех под носом стрелками из пресловутого «перекрестка мира», а именно восстановление старой дороги, проходящей через Мегри, или называя вещи современной терминологией, Зангезурский коридор, предоставить который Армения обязалась по Трехстороннему заявлению. Ильхам Алиев также заявил, что Азербайджан не может рассчитывать на гарантии безопасности коридора со стороны Армении, поэтому еще и напомнил Пашиняну о другом обязательстве, под которым тот поставил подпись – об обеспечении контроля и безопасности над коридором силами пограничных войск ФСБ России. В противном случае, мы не откроем границу с Арменией, и она останется в тупике, в таком духе завершил свою мысль Алиев. Также однозначно высказался он и о формате переговоров. «Это – вопрос между нашими двумя странами, мы сами и должны решить его. Если придем к договоренности, то будет подписан мирный договор. Если не придем, значит, переговоры либо будут продолжены, либо остановлены. Оба варианта возможны», - сказал азербайджанский лидер. В то время, как официальный Баку озвучивал свою ясную позицию, Ереван посетил старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно. На этом фоне представители Еревана стали проявлять признаки недовольства переговорным процессом. Сначала секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что «мы увидели определенные отступления в тексте мирного соглашения». Затем уже глава МИД Арарат Мирзоян на встрече с греческим коллегой заявил, что «мы видим определенный регресс в предложениях Азербайджана в содержательном плане по определенным пунктам текста». Вместе с тем, пока рано говорить о срыве мирного процесса, поскольку оба официальных лица продолжили свои замечания в более позитивном ключе. «В целом все же есть и пункты, по которым мы продвинулись вперед и рассчитываем в кратчайшие сроки доработать и подписать мирное соглашение», - добавил Григорян. А Мирзоян заметил, что есть также «определенный прогресс по ряду других направлений». Означает ли это, что Ереван больше готов, чем не готов исполнять 9-й пункт Трехстороннего заявления, станет ясно в ближайшее время. Тем временем продолжается шпионско-дипломатический скандал между Азербайджаном и Францией. Стало известно имя гражданина Франции, задержанного по подозрению в шпионской деятельности. Им оказался Мартин Райан, человек, выдававший себя за бизнесмена. Но есть и более приятные новости. Спустя N-ое количество дней, наконец, заговорила мэрия городка Эвиан-ле-Бен, того самого, в котором был совершен акт вандализма по отношению к Азербайджанскому парку и памятнику Натаван. Руководители города заверили, что порядок в саду будет восстановлен. И даже больше – мэр город обратился в полицию в связи с актом вандализма. Мэрия также опровергла утверждения о том, что сад якобы закроют. «Мэрия ищет специалистов для ремонта и очистки статуи, а также для восстановления каменных табличек с названием сада», - заявили в городском управлении. Новость, конечно, позитивная, для полноты картины было бы неплохо, если бы ремонт памятника и табличек в саду поручили армянским каменщикам, разумеется, под строгим надзором сотрудников азербайджанского посольства. БЛИЖНИЙ ВОСТОК На Ближнем Востоке все-таки заполыхал новый фронт. США и Британия с ночи четверга наносят массированные удары по десяткам целей в Йемене, включая столицу Сану. Не обошлось без жертв. Впрочем, специалисты утверждают, что без наземной операции вряд ли получится подавить активность хуситов в Красном море. Также многое зависит и от позиции, которую займет Тегеран, ведь ясно, что удар по хуситам - это удар по Ирану. Более того, даже противники «Ансар-Аллах» - Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, оказались в сложной ситуации. С одной стороны, в арабо-израильском конфликте они поддерживают палестинцев, но с другой — являются традиционными противниками хуситов. Похоже, в этой ситуации Тегерану удалось поставить в патовую ситуацию суннитские государства залива, однако одновременно приблизить конфронтацию с США и Великобританией. Именно попыткой привлечь государства Ближнего Востока к антийеменской коалиции являлось одной из задач ближневосточного турне госсекретаря Блинкена. По мнению экспертов, попытка оказалась безуспешной - все лидеры требуют от США добиться прекращения огня в Газе, чего Израиль делать не намерен до полного достижения своих заявленных военных целей, главная из которых — полное уничтожение ХАМАС. И похоже, что увещеваниям Блинкена не помогает и активно продвигаемая Вашингтоном тема создания объединенного палестинского государства на землях Западного берега и сектора Газа. Во-первых, создание палестинского государства все еще выглядит как обещание, исполнение которого не гарантировано. Во-вторых, Вашингтон пока отказывается даже называть сроки прекращения Израилем операции в секторе Газа, полностью выражая поддержку военным планам Тель-Авива. Вместе с тем, арабским государствам нужно не столько обещание в будущем создания Палестины, сколько скорейшее прекращение огня по той простой причине, что затягивание конфликта грозит нестабильностью внутри самих этих государств. Это хорошо понимают и в администрация Белого дома. Однако большой вопрос в том, насколько она может воздействовать на непримиримую позицию Нетаньяху. Израильский премьер пока счел необходимым высказать лишь обещание не выселять население Газы. Тем не менее Блинкен взял на себя смелость заявить по большому счету ничем не обязывающую фразу о том, что США и Израиль стремятся дипломатическим путем предотвратить дальнейшее разрастание конфликта на Ближнем Востоке. Впрочем, и здесь речь скорее всего идет о противостоянии «Хезболле», но никак не об операции в Газе. Вместе с тем количество жертв среди мирного населения Газы продолжает расти. По данным министерства здравоохранения сектора, с начала военной операции в октябре прошлого года погибли более 23 тысяч мирных палестинцев, включая свыше 10 тысяч детей. Да, минздрав Газы подконтролен ХАМАС и независимо проверить эти данные невозможно, но даже если, согласно известной присказке, поделить сказанное ХАМАС на два, то получаем цифру 11 с половиной тысяч, что тоже является шокирующим. Даже Блинкен вынужден был заявить о том, что «ежедневное число жертв среди мирного населения Газы, особенно среди детей, слишком велико». Очевидно, что чем больше времени проходит с даты кровавой атаки ХАМАС на еврейское государство, тем труднее Тель-Авиву оправдывать гибель мирных жителей Газы. Учитывая же, что Нетаньяху уже объявил о том, что война продлится еще долгие месяцы, то можно ожидать, что внешнее давление на Израиль будет только усиливаться. Впрочем, уже сейчас происходят неприятные вещи. В четверг против Израиля начались слушания в Международном суде. Соответствующий иск подали в Международный суд ООН в конце 2023 года власти ЮАР, требуя принять временное постановление, которое обяжет израильские власти немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа. При этом ЮАР сослалась на возможные нарушения Израилем Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Израиль не намерен ни долгосрочно оккупировать сектор Газа, ни изгонять оттуда гражданское население, заявил перед началом судебного разбирательства израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Израиль борется против террористов ХАМАС, а не против палестинского населения, и мы делаем это в полном соответствии с международным правом», - подчеркнул Нетаньяху. По его словам, Армия обороны Израиля делает все возможное, чтобы сократить до минимума вред гражданскому населению сектора Газа, в то время как ХАМАС делает все, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита. Ожидается, что слушания по этому делу продлятся несколько недель. Решения Международного Суда не обязательны к исполнению, однако способны нанести репутационный ущерб обвиняемой стороне в случае удовлетворения иска. Поэтому Тель-Авив направил в Гаагу большую команду юристов, чтобы, по выражению пресс-секретаря израильского премьера Эйлона Леви, «рассеять абсурдный кровавый навет Южной Африки». УКРАИНА – РОССИЯ Российская армия перешла в наступление по всем направлениям украинского фронта. ВСУ пока удается сдерживать наступление россиян и при этом поражать российские военные объекты в Крыму. На фоне активизации России президент Зеленский предпринял очередные шаги в попытке обеспечения своей страны поддержкой западных стран. Этому послужило его турне по странам Балтии. В ходе визита выяснилось, что Литва и Латвия планируют передать Украине партии военной помощи, включая системы ПВО и вертолеты. Кроме того, Латвия обещает помочь Украине в производстве беспилотников. Однако самое ответственное обязательство, похоже, взяла на себя Эстония. И дело тут не только в обещанной помощи Украине на сумму 1,2 млрд. евро. В своем выступлении эстонский президент Алар Карис заявил, что не нужно ограничивать поставки оружия в Украину и что, внимание, он не видит проблемы в том, чтобы наносить удары западным оружием по территории России. И это заявление эстонского премьера, пожалуй, самое интересное из того, что произошло во время балтийского турне Зеленского. Ведь совершенно очевидно, что эстонский президент озвучил не только свою позицию, но и некий месседж Москве со стороны коллективного Запада, или как минимум Соединенных Штатов. Очень похоже также и на то, что подобные месседжи призваны сдержать наступательный пыл Москвы в самый опасный для Украины период – пока страны Запада никак не определятся с механизмами предоставления финансовой и военной помощи Киеву. Caliber.Az
-
Политолог Арзуманян: Армению ждет довольно трудный год РЕГИОН «Учитывая происходящие события, трудно сказать каким будет 2024 год для региона и особенно для Армении. Следует помнить и не забывать, что процессы не ограничиваются только Южным Кавказом, только украинской войной, но началась и израильская война. Однако у нас есть несколько театров военных действий, которые пока остаются «локальными», то есть у нас есть процессы в Европе, на Кавказе, на Ближнем Востоке». Как передает Caliber.Az, об этом директор Центра стратегических исследований «Ашхар» Грачья Арзуманян заявил в ходе своего интервью армянским СМИ. «Это будет достаточно сложный год, где существуют большие региональные и геополитические угрозы, а все процессы развиваются скорее в военной логике, что опасно. Вторая серьезная угроза, которая ожидает нас в 2024 году, — это президентские выборы в США. Сегодня никто не осмелится предсказать, чем они закончатся. Если победит Трамп, то у нас будет совершенно другая ситуация, и обстановка региональной безопасности Армении может претерпевать кардинальные изменения, и у нас очень мало возможностей влиять на эти процессы. Выборы пройдут и в России, но они предсказуемы, выборы в Азербайджане тоже предсказуемы, выборы пройдут и в Грузии. После выборов, прошедших в России и Азербайджане, вокруг Армении могут произойти неожиданные события, к которым мы должны быть готовы. Пожалуй, вторая – главная проблема, после выборов в России и Азербайджане в нашем регионе могут произойти активные изменения, особенно если не будет успешного для Украины развития событий в украинской войне. Итак, нас ждет довольно трудный год. Я не могу ответить на этот вопрос, что должно делать нынешнее правительство, потому что понятия не имею, как думают власти Армении, для меня это загадка. Поведение властей Армении современное, то есть они предпринимают шаги, исходя из событий момента, реагируют только на угрозы дня, я не вижу никакого прогноза или стратегии. Они будут действовать так, как действовали до сих пор, когда угроза станет неизбежной, они предпримут какие-то шаги в ответ. На мой взгляд правительство Армении не собирается менять вектор внешней политики», - заявил политолог.
-
Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) и Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) за беспорядки перед игрой отборочного этапа чемпионата мира — 2026. Как передает Caliber.Az, об этом сообщает официальный сайт ФИФА. Матч между сборными Бразилии и Аргентины прошел 22 ноября на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершился победой гостей со счетом 1:0. Встреча началась с задержкой в полчаса из-за беспорядков на трибунах. Конфликт между болельщиками начался во время исполнения национальных гимнов. Бразильцы освистали гимн Аргентины, после чего начались столкновения, в которые вмешалась полиция. Несколько болельщиков из соображений безопасности выбежали на поле. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси увел свою команду с поля, однако после урегулирования конфликта на трибунах матч стартовал. ФИФА оштрафовала аргентинскую сторону на 20 тысяч швейцарских франков. Кроме того, Аргентина наказана за дискриминирующее поведение болельщиков на домашних играх со сборными Эквадора (1:0) и Уругвая (0:2). Caliber.Az
-
Главный тренер сборной Узбекистана: Для сборов мы выбрали братский Азербайджан Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике выбрала местом проведения учебно-тренировочных сборов братский Азербайджан, где хорошо развита тяжелая атлетика. Как сообщает Azerbaycan 24, об этом главный тренер сборной Узбекистана Бахрам Мендибаев заявил журналистам. Он сказал, что совместная подготовка со сборной Азербайджана, которая добилась высоких результатов в тяжелой атлетике, пойдет на пользу его команде.
-
«Можно констатировать хищническое отношение Армении к природе Азербайджана» Тимур Рзаев Журналист Caliber.Az На фоне неопределенной ситуации с Арменией, которая усилиями различных внутриполитических группировок, конкурирующих между собой, всячески затягивает подписание мирного договора с Азербайджаном, сложной остаётся и экологическая ситуация в этой стране. А это является прямой угрозой Азербайджану и населению нашей республики. В частности, горная промышленность Армении продолжает деятельность, создающую риски потенциальной экологической катастрофы, и пока к соблюдению экологических норм в соседней стране явно относятся с пренебрежением… Об этом Сaliber.Az побеседовал с экономическим экспертом, экологом, президентом Фонда содействия развития предпринимательства и рыночной экономики АР Сабитом Багировым, который ответил на актуальные вопросы по данной проблеме. - Сабит муаллим, почему Армения так пренебрежительно относится к экологии региона и трансграничных рек, а в период оккупации истребляла наши леса и расхищала полезные ископаемые? - Отношение к экологии в той или иной стране может считаться одним из основных показателей уровня культуры населения. Там, где этот показатель на низком уровне, отношение к природе – потребительское. Поэтому в странах, развитых в культурном отношении, население бережно относится к окружающей среде. Причем там, где культура населения выше, наблюдается и более высокий уровень контроля со стороны общества над политикой правительства этой страны и компаний в отношении защиты окружающей среды. Я не думаю, что население стран Южного Кавказа как-то значительно отличается друг от друга в отношении к природосбережению. Все мы вышли из «советской шинели» и пока не далеко ушли друг от друга в плане общей культуры населения. Но другое дело - экологическая ситуация, оставленная агрессором в освобожденных районах Карабаха. Армения, думаю, чувствовала, что рано или поздно ей придется покинуть захваченные территории в Карабахе и, как следствие, мы можем констатировать хищническое отношение к природе региона вследствие дефицита общей культуры агрессора. Разве можно ожидать от такого захватчика бережного отношения к природе, если он не чурался разграбления и разрушения домов изгнанного азербайджанского населения, мечетей, культурных памятников и даже кладбищ? - Есть ли способы остановить Армению и не допустить возможную экологическую катастрофу? - Сегодня экологические риски в приграничных районах Азербайджана связаны с деятельностью горнодобывающих предприятий Армении. Что дает основание говорить об этих рисках? Мы провели определенные предварительные исследования для оценки этих рисков. Во-первых, выяснилось, что проведенные Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана исследования уровня загрязненности трансграничных рек показывают наличие в воде тяжелых металлов и других опасных для здоровья человека веществ. Есть соответствующие публикации в СМИ. Во-вторых, попытки обнаружить документы по Оценке воздействия на окружающую среду (так называемые ОВОС) на веб-сайтах всех 26 компаний, работающих в горнодобывающей промышленности Армении, не увенчались успехом. В третьих, есть публикации в СМИ Армении о протестах армянских экологических неправительственных организаций, бьющих тревогу по поводу опасного загрязнения окружающей среды предприятиями добывающей промышленности этой страны. Эти организации даже создали в свое время так называемый «Экологический фронт Армении». Согласитесь, что все эти факты заставляют задаться вопросом о возможных предстоящих проблемах со здоровьем возвращающихся к своим родным очагам ранее изгнанных из Карабаха сотен тысяч людей (из-за загрязнённой воды). Теперь что касается вопроса о возможности предотвращения экологической катастрофы. В приниципе, это, конечно, возможно. Прежде всего, есть необходимость в переводе работ по мониторингу качества воды в трансграничных реках, таких как Охчучай, Баргушад, Хакари и другие с эпизодического режима на постоянный. Это задача не только нашего Министерства экологии, но и неправительственных экологических организаций, как центральных, так и местных. Контроль за уровнем загрязненности рек должен быть в центре внимания также и местных властей и общин. Конечно, необходимо также добиться повышения ответственности армянских компаний добывающей промышленности. Прежде всего, они должны раскрыть для публики свои документы ОВОС. Как на них воздействовать? Да, это не просто. Нужна последовательная и настойчивая работа. Есть несколько каналов воздействия на них. Первый канал – это правительство Армении. Конечно, добиться от правительства Армении содействия в этом вопросе будет не простой задачей. Дело в том, что доля добывающей промышленности Армении в доходах бюджета составляет достаточно высокий процент. Второй канал – это международная организация «Инициатива прозрачности в добывающей промышленности». 26 компаний добывающей промышленности Армении являются участниками этой инициативы. Они раскрывают все платежи Армении, согласно контрактам, подписанных с правительством. Но раскрытие ОВОС стандартом этой Инициативы не предусматривается. Поэтому необходимо нам попытаться воздействовать на правление Инициативы, чтобы в стандарт было включено соответствующее требование об ОВОС. Этого можно добиться через мобилизацию НПО разных стран, участвующих в Инициативе прозрачности. Все эти НПО, в свою очередь, объединены в международной организации «Publish What You Pay». Мы планируем проведение в Баку международной конференции по вопросам совершенствования стандарта Инициативы в части экологических требований. Третий канал – это неправительственные организации Армении. Четвертый канал – это инвесторы этих 26 компаний. Пятый канал – это общественные организации стран происхождения этих компаний. Мы намерены работать по всем каналам, разумеется, кроме первого из упомянутых выше. - А насколько реально добиться усиления стандарта Инициативы прозрачности в части экологических требований? - Достаточно реально. Я в свое время был членом правления этой Инициативы, а в самом начале формирования Инициативы прозрачности был членом международного Совета по подготовке первых редакций требований к правительствам и компаниям - участникам этой Инициативы. Поэтому я достаточно осведомлен в этой области. Кроме того, у меня сохранилися ряд контактов с другими членами правления, которых, я надеюсь, мы сможем заинтересовать в принятии участия в подготовке изменений в стандарт Инициативы и в последующем лоббировании этих изменений. - Какие потенциальные риски создаёт Мецаморская АЭС? - Это – другая тема. Я не хотел бы, чтобы мы затронули и эти проблемы в данном интервью. Это тема отдельного большого разговора. Просто коротко замечу, что существует очень серьезная система международного контроля за деятельностью атомных электростанций. - Насколько возможно сотрудничество азербайджанских и армянских экологов? - В приципе возможно. Но, конечно, прежде всего это зависит от настроя и желания армянских экологов. Наши экологи, думаю, будут готовы к сотрудничеству. Такое сотрудничество, нет сомнений, поддержат и международные организации. - Можем ли мы восстановить нанесенный армянами экологический ущерб? - Думаю, да. Вопрос во времени и финансовых ресурсах. Caliber.Az
-
Смертная казнь для армянских сепаратистов – все «за» и «против» Не только в Азербайджане, но во многих государствах мира периодически высказываются предложения о необходимости сохранения или восстановления смертной казни, как высшей меры наказания. И это вовсе неслучайно. Люди считают, что наказание должно быть адекватным преступлению. По их мнению, в отношении некоторых тяжких преступлений наиболее адекватным наказанием может быть только смертная казнь. Но в подобных предложениях, как правило, не учитывается один очень важный момент. Для человека самой дорогой ценностью являются свобода, надежда и стремление к счастью. Человек, в отношении которого принято пожизненное заключение лишен всего этого – преступник, получивший в качестве наказания смертную казнь, умирает один раз, а пожизненно заключенные умирают каждый день, каждый час. Эти люди больше не увидят ясного неба, больше не сядут за один стол с родными и близкими. Самое главное, они лишены основного в человеческой жизни – надежды, которая, как говорится в одной известной песне, является настоящим компасом, спутником в жизни человека. Им не на что надеяться – единственно, что они увидят в этом мире, это всего лишь стены тюремной камеры… Что касается подобных высказываний у нас в Азербайджане, в настоящее время они также неслучайны. Сейчас идут судебные процессы, соответствующие юридические процедуры над армянскими сепаратистами-преступниками. Их руки испачканы кровью сотен ни в чем неповинных людей, ими были изгнаны из родных очагов сотни тысячи людей, полностью разрушены села и целые районы и города. Поэтому многие в Азербайджане весьма справедливо думают, что в отношении этих людей может быть применено только одно наказание – смертная казнь. Плюс, и международными трибуналами против подобных преступников применялась в основном смертная казнь. Поэтому люди часто говорят о необходимости восстановления смертной казни, которая была отменена во время вступления страны в Совет Европы. Мы тут не будем вновь повторять некоторые аргументы и рассуждения, которые были высказаны чуть выше. На самом деле, это довольно сложная проблема, потому что она имеет не только сугубо юридические, но философско-культурные, даже религиозно-теологические аспекты. Повторим только одно: если, как следует, вникнуть в суть, то, пожизненное лишение свободы, на самом деле, самое тяжкое наказание. Мы понимаем наших сограждан – армянские сепаратисты-преступники на самом деле совершили самые тяжкие преступления, и люди правы требовать в отношении их адекватное наказание – смертную казнь. Но тут приходится отметить еще одну деталь; понятно, что, если восстановить смертную казнь, она будет применена не только в отношении армянских сепаратистов – преступников. Кроме того, речь идет о таком способе наказания, который вызывает споры даже из теологических соображений, т.к. человека может лишить жизни только Господь Бог. Кроме того, тут имеются и другие соображения. Да, невольно вспоминается еще один момент. В одной из европейских стран, судьи открывают заседание суда с почтением памяти одного пекаря, в отношении которого в средние века была применена смертная казнь, хотя он не был виновным. Когда выяснилось, что он невиновен, было уже поздно — наказание было исполнено и пекарь был убит… Плюс, философы и теологи обращают внимание еще на две детали из истории человечества – речь идет о распятии Христа и о вынужденном принятии яда философом Сократом. Понятно, что, если не было бы смертной казни этих наказаний также не было бы – возможно, Христа не распяли бы, а Сократа не вынудили бы принять яд. Поэтому тут приходится заметить, что, возможно, в некоторых случаях смертная казнь является самой адекватной мерой, но она открывает путь и к некоторым рискам, особенно, во время политических волнений – вспомните, во время Великой Французской Революции жизнь скольких людей оборвалась именно на гильотине!.. Еще раз заметим, что обсуждаемый нами предмет весьма сложен, плюс, мы вынуждены еще раз отметить, что, наверное, для армянских сепаратистов-преступников самым адекватным и справедливым наказанием может быть только смертная казнь. Но и в братской Турции такого преступника, как Абдулла Оджалан, наказали пожизненным заключением. Думается, что Оджалан не очень-то рад, что в отношении него не была принята смертная казнь, дали только пожизненное заключение. Нет, и он больше не увидит ясного неба, больше не будет в окружении своих родных и близких. Самое главное, он лишен самого ценного для человека чувства – надежды. Да, и ему, и подобным ему преступникам больше не на что надеяться… Автор: Гусейнбала Салимов |
-
Курс турецкой лиры установил новый антирекорд Курс турецкой лиры к доллару на торгах 11 января обновил исторический минимум. По состоянию на 12:04 по бакинскому времени стоимость американской валюты составила 30,01 лиры. В ноябре турецкий Центробанк повысил учетную ставку с 30% до 35%. Годовая инфляция в стране на конец декабря составила 64,77%. При этом в ЦБ Турции сообщали, что не намерены жестко влиять на валютные торги и проводить крупные интервенции в случае падения нацвалюты.
-
Продажи электромобилей в мире выросли на 31% Продажи электрических автомобилей в мире выросли в 2023 году на 31%, составив 13,6 млн, об этом сообщает Reuters. Материал агентство предоставило исходя из данных британской консалтинговую компанию Rho Motion. При этом годом ранее, в 2022 году, рост продаж автомобилей на электрической тяге составил 60%. «Темпы роста замедляются, но на подобных растущих рынках это ожидаемо. Вы не можете удваивать показатели каждый год», — заявил агентству менеджер по данным Rho Motion Чарльз Лестер. Он добавил, что в декабре был установлен месячный рекорд, когда было реализовано 1,5 млн электромобилей. По словам Лестера, показатели 2023 года соответствуют изначальным ожиданиям компании. На 2024 год ее прогноз составляет рост в диапазоне между 25% и 30%. В 2023 году полностью электрических автомобилей было продано 9,5 млн, а остальное пришлось на гибридные автомобили. Продажи полностью электрических машин выросли на 50% в США и Канаде, на 27% — в Европе и на 15% — в Китае.


