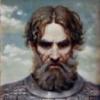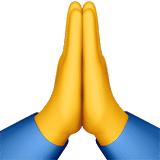-
Публикации
1964 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Все публикации пользователя Ратмир
-
История доказывает, что фамилии армян оканчивались на «анц», «унц» | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
Отношения между секретарëм Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и представителями правящей партии «Гражданский договор» (ГД) «перешли в область напряжëнного недоверия». Как передает Axar.az, об этом пишет армянская газета «Грапарак». В возглавляемом премьер-министром Николом Пашиняном политобъединении «уже нет тëплого отношения к своему прозападному соратнику, поскольку Григорян в какой-то момент отделился от команды и выдвинулся на передний план», пишет газета «Грапарак». Как отмечает издание «все заметили, что Армен Григорян выделяется Западом и даже считается преемником Никола Пашиняна». «И если Пашинян не выполнит требования Запада, откажется подписывать (мирное) соглашение (с Азербайджаном) и не будет проводить чёткую политику в отношении России, то не исключено, что его заменит Григорян, который без колебаний и с большим удовольствием будет реализовывать свои планы», — утверждается в публикации. Также указывается, что «во внутрикомандных дискуссиях ГД говорится, что если поначалу Пашинян не воспринял этот сценарий всерьёз, то теперь его начала беспокоить самостоятельная игра Григоряна с Западом».
-
Армяне не Люди Природы, Они Враги Природы | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
Через 36 лет армяне признались в совершённых в Кафане преступлениях | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
Карабулут: Армения должна выплатить Азербайджану 1 трлн долларов Как сообщает Report, об этом преподаватель факультета экономики и управления Университета Ататюрка Керем Карабулут заявил на Международной научной конференции на тему "Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения" в Баку. "Азербайджан - это колыбель культуры Кавказа. Шуша - центр тюркской культуры, очень важный город для тюркского мира",- отметил он. Карабулут добавил, что нельзя забывать про экономический аспект разрушений в Шуше и в целом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана: "Армения должна ответить за тот урон, который она учинила на этих территориях. В отношении всех объектов как инфраструктуры, так и памятников культуры". По его подсчетам, Армения должна возместить ущерб Азербайджану в размере 1 трлн долларов. Керем Карабулут добавил, что после увиденных в Агдаме разрушений, "даже эта сумма кажется недостаточной".
-
Деспотическое Общество Армении - Правда, Которую Заставили Забыть | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
Армянский депутат: Азербайджанцы вернутся в Иреван и Зангезур... | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
GW-150: снайперская винтовка для P-26 GW-150, das Praezisiongewehr der P-26. Текст и фото: Ласло Толвай (главный редактор SWM). Опубликовано в «Швейцарском оружейном журнале» (Schweizer Waffen Magazin), 2012, №9. Необходимое предисловие переводчика История винтовки GW-150 неразрывно связана с так называемой «Организацией П-26» (Organization P-26) — тайной организацией, существовавшей в Швейцарии во время холодной войны. Годом основания считается 1979. Швейцария, находящаяся в самом сердце Европы, в случае перерастания холодной войны в «горячую» оказалась бы в «центре урагана» и наверняка была бы оккупирована одной из воюющих сторон. В этом случае члены организации должны были начать партизанскую войну. Для этого создавались запасы оружия, боеприпасов, взрывчатки, а также схроны. П-26 была организована Генеральным штабом Вооруженных сил Швейцарии с ведома парламента. Члены организации — действующие и отставные военнослужащие и сотрудники силовых структур, резервисты. Вооружение и прочее имущество предоставлялось Вооруженными силами и в мирное время хранилось на армейских складах. В 1989 году сведения о П-26 просочились в СМИ. Разразился скандал. Левые партии обвинили правительство в том, что оно создало «тайную армию» для подавления оппозиции. П-26 была запрещена и распущена. Подробности создания и деятельности «Организации П-26» до сих пор окутаны покровом тайны. Исследованию этой темы посвящена книга Мартина Маттера «П-26: тайная армия, не бывшая таковой» (Martin Matter „P-26, die Geheimarmee, die keine war“). О этой книге рассказывается в статье «Швейцарского оружейного журнала» (Schweizer Waffen Magazin), 2012. №7. Владеющие немецким могут ознакомиться со статьёй в Википедии (https://de.wikipedia.org/wiki/P-26). Есть также варианты на английском и французском.[/i] Все, что касается «Gewehr-150» («Гэвер-150», «Винтовка-150»), разработанной и изготовленной в ничтожном количестве фирмой SIG в Нойхаузене, покрыто тайной и известно лишь немногим специалистам. Автор лишь благодаря случаю натолкнулся на один музейный экземпляр и имел возможность его сфотографировать. Опробовать же на стрельбище, увы, не удалось. Некоторые замечания: в статье мы рассмотрим лишь технические аспекты «Gewehr-150» — интересного образца времен холодной войны. Военно-политические вопросы намеренно оставляем в стороне. К тому же большинство людей, связанных с разработкой этого оружия, а также с деятельностью самой «группы П-26», не желает открываться общественности или обязано до сих пор хранить тайну. Поэтому в статье не упоминаются реальные имена. Желающим узнать больше о «группе П-26» можно посоветовать книгу Мартина Маттера «П-26: тайная армия, не бывшая таковой» (Martin Matter „P-26, die Geheimarmee, die keine war“). В книге ГВ-150 упоминается лишь раз, без каких-либо подробностей, каковые мы попробуем, насколько возможно, раскрыть в этой статье. Многие упомянутые технические детали основаны более на домыслах, которые невозможно подтвердить или опровергнуть. Сначала было техническое задание Из иллюстраций к книге «П-26: тайная армия, не бывшая таковой» ясно, для каких целей предполагались различные образцы оружия. Пистолеты (Зиг-Зауэр Р-250) — для самообороны, также как и пистолеты-пулеметы ХК МП-5 с глушителем, стволы которых, судя по всему, были просверлены, чтобы не зависеть от наличия специальных дозвуковых патронов. Многократно упомянутые в книге кумулятивные гранаты служили скорее для взлома бронированных дверей, чем для противотанковой обороны. Так как пистолеты-пулеметы были эффективны на дистанциях до 50, в лучшем случае — до 100 метров, требовалась специальная винтовка, с помощью которой опытный стрелок мог бы поражать цели размером с крышку пивной банки на дистанциях до 200 метров. Винтовка при этом должна была быть «бесшумной» и обладать достаточной мощностью для активации (например) подрывных зарядов. (Это такие заряды, которые устанавливаются в уязвимых местах каких-либо объектов, а потом подрываются с дистанции посредством точного выстрела). Также она требовалась для ликвидации часовых, поражения технических средств охраны, например, видеокамер, и так далее. Но, как уже было сказано, это скорее домыслы. Основным требованием была точность стрельбы на 200 метров, а так как такого оружия тогда не существовало, оно должно было быть разработано специально для нужд «группы П-26», так же, как и патрон. Читатели нашего журнала, наверное, помнят статью о карабине DeLisle. Это оружие из времен Второй мировой войны, представляющее собой винтовку «Энфильд», снабженную глушителем и стреляющую патронами .45АСР, было эффективно на дистанциях до 100 метров. Тогдашнее EMD (ныне VBS) (Министерство обороны. — Прим. переводчика) направило техническое заданий фирме ЗиГ в Нойхаузене, где разрабатывались системы для стрельбы тяжелыми дозвуковыми пулями, но опыта разработки глушителей не было. Для этого был привлечен сторонний специалист, которого мы назовем Н.Н. Принадлежит ли идея спецпатрона ему, или кому-либо еще, неизвестно, так как Н.Н давно ушел на покой и отказался от контактов с автором. По окончании работ он, как ему было приказано, уничтожил всю конструкторскую документацию. Спецпатрон «Супер-Магнум» Патрон .41 Magnum со свинцовой пулей рядом со специальным винтовочным патроном 10,4 мм. для ГВ-150. Используемая гильза — .41Magnum Магазин на 3 патрона, ниже фабричная наклейка-этикетка для патронной упаковки на 300 штук. То и другое — чрезвычайная редкость в наши дни Имеющиеся на тот момент патроны .45АСР и дозвуковой вариант .308 Win. не отвечали поставленным требованиям. 300 Whisper тогда еще на существовал, да и эффективность его не выше, чем .308 Win. Следовательно, требовался новый патрон с относительно короткой гильзой, который бы обеспечил тяжелой пуле скорость не менее 315 м/с. Задача была поставлена патронной фабрике в Туне (Thun). Вся информация также сохраняется в тайне, но известны реальные образцы, которые представляют немалый (исторический) интерес. Гильза была использована от .41 Magnum (Remington), пуля же скорей всего специальная, массой ок. 410 гран. Таким образом, на дистанции 200 метров она сохраняет энергию свыше 1000 Дж — больше, чем у .308 Win Subsonic или .300 Whisper. Траектория пули. тем не менее, очень крута у винтовки, пристрелянной на 100 метров, на дистанции 200 м точка попадания оказывается на 110 см ниже точки прицеливания. Понятно, что при этих условиях очень важна точная оценка расстояния. О наличии какого-либо специального прибора для этого неизвестно. Очень крутая траектория говорит о том, что для стрельбы на дистанции свыше 100 метров очень важна точная оценка расстояния «SiG Sauer» и «обвес» С левой стороны ствольной коробки видна маркировка армейского образца и швейцарский герб. Также виден винт, крепящий глушитель к стволу В качестве основы использована охотничья винтовка «SiG Sauer» (в то время фирма называлась еще «Sauer und Sohn») . Складной приклад и пистолетная рукоятка взяты от прототипа Stgw 90. Алюминиевая ложа и глушитель изготовлены специально. Размеры глушителя позволяют судить о его высоких качествах. Оптический прицел без обозначения модификации. Кратность 4-6 , произведен фирмой Schmidt + Bender. Для стрельбы на дистанции 50-200 метров он вполне подходит. Массивный кронштейн EAW как бы говорит, что в те времена денег на оборону не жалели... Передняя часть глушителя крепится на резьбе и снимается для чистки. Видно внутреннее устройство глушителя и дополнительная сверловка ствола Вид на верхний патрон трехместного магазина через око выброса. Оптический прицел Schmidt + Bender специального изготовления Установки прицела ограниченны дистанциями от 50 до 200 метров. Никаких дополнительных устройств для измерения дистанции не предусмотрено Большие размеры глушителя позволяют судить о его высоких акустических качествах, но о полной бесшумности говорить не приходится Технические данные: Модель: GW-150. Тип: Винтовка с поворотно-скользящим затвором. Производитель: SiG Sauer (предположительно). Калибр: специальный патрон 10,4х32. Длина ствола: 350 мм. Прицел: оптический 4-6х42 мм. Емкость магазина: 3 патрона. Тип предохранителя: ползунковый на шейке приклада. Общая длина: 1155 мм. 895 мм — со сложенным прикладом. Масса: 5,85 кг. Ласло Толвай (Lasclo Tolvaj) Швейцарский оружейный журнал (Schweizer Waffen Magazin), 2012, №9
-
«Мы укрыли головы детей, чтобы в них не попадали камни» | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙЖАНА
-
Внешний вид замка позволяет отнести его к кремневым замкам испано-мавританского типа. Он состоял из замочной доски, курка с верхней подвижной губой и курковым винтом пороховой полки, представляющим собой боевую пружину. С обратной стороны курка прикреплялось огниво, представляющее собой стальную пластину с горизонтальными нарезами. Замок заканчивался спусковым крючком в виде пуговки. «Чакмаклы карабин» Для того, чтобы произвести выстрел, необходимо было насыпать порох в ствол, вогнать пулю в уплотнитель (пыж). Затем шомпол вводится в ствол и прижимает порох, пулю и пыж к казеннику. После выведения шомпола воин взводит курок, т.е. большим пальцем руки отводит кремень назад (автоматически отодвигает и огниво), насыпает порох на пороховую полку. Нажимая на спусковой крючок, стрелок приводит в движение и кремень, и огниво. Их столкновение вызывает искры, воспламеняющие порох на пороховой полке, которая в свою очередь через отверстие в казенной части ствола поджимает порох внутри ствола, что приводит к выстрелу. Пистолет длиной 42,5 см переносился на ремне или цепочке, крепившейся к кольцу на ложе. Аналог такого типа у турков назывался «чакмаклы карабин». Примечательно, что турецкий исследователь Т.Чороглу считал, что «стамбульский» образец был плодом труда азербайджанских мастеров. Второй тип пистолета использовался более часто, что подтверждается не только многочисленными музейными экземплярами, но и рисунками современников и настенными росписями. Он состоял из тех же элементов, что и первый тип, но отличался формой исполнения. Так, ствол прямой, без расширения, ложа плавно изогнута и заканчивается «облаком» из слоновой кости. Аналог этого типа в Турции назывался «кавкасия чакмалы табанчасы». Азербайджанское огнестрельное оружие, как и прочие виды Кав-казского оружия отличалось также большим богатством и разнообразием украшений: стволы обрабатывались насечкой золотом, кремневые замки — гравировкой и насечкой, ложи изготовлялись из чинары или орехового дерева, инкрустировались костью, серебром или деревом и т.д. Азербайджанские пистолеты и ружья, несмотря на простую технологию изготовления, обладали высокими конструктивными достоинствами и боевыми качествами. Налаженное в XVIII в. производство огнестрельного оружия уже к концу XVIII в. достигло высокого уровня и приобрело заслуженную популярность на Востоке. Многие образцы кремневого огнестрельного оружия XVIII века использовались охотниками даже в XX веке. По материалам Музея Истории Азербайджана
-
Общая длина ружья 166 см. Большой вес, габариты, неудобство в использовании позволяют предположить, что эти ружья в большинстве своем использовались как крепостные. Аналоги таких ружей были представлены на картинах Верещагина и были известны на востоке под названием «мультук». Следующим видом ружей было ружье с кремневым замком. В кремневых замках воспламеняющий затравку огонь высекался в момент удара по стальной пластине — огниву, ремень был закреплен особым зажимом на курке. Устройство кремневого ружья было предельно простым. Ствол, представляющий собой металлическую трубу, наглухо закрытую сзади, снабжался кремневым замком и укреплялся на деревянной ложе. А боеприпасы к нему — это лишь порох да круглые (сферические) свинцовые пули. Кремневое ружье переданное в Музей Истории Азербайджана состояло из ствола, ложи и подставки. Ствол представлял собой стальную 8-мигранную трубу. Внутренний канал также имел восемь граней и нарезы. Ствол погружен в ложу, имел мушку и простейшую прицельную планку с отверстием посередине. В казенной части ствол соединялся с ложей, накладной пластиной с ремнями, а в остальных частях — тремя стальными накладками (билярзик). Ложа была сделана из твердой породы дерева и целиком обклеено черной шагреневой кожей. Приклад длиною 29 см кавказского типа имел у пяты дополнение из слоновой кости. В носовой и замочной частях ложи имелись прорези для продевания ремня. Так называемый испано — мавританский замок имел внешний механизм. Боевая пружина, подогнивная пружина были расположены снаружи замочной доски. Огниво и крышка пороховой полки объединялись в одну деталь. Курок взводился на предохранительный взвод и на боевой. В носовой части ложи утапливался шомпол, представляющий собой стальной прут, имеющий утолщение на конце. В передней части ложи снизу имелась накладка с подставкой. Подставка состояла из 2-х металлических сошек. Если у мультука сошки складывались по направлению к дулу, то у этого ружья сошки складывались по направлению к замку. Третий тип ружья также кремневый, более легок, изящен и поэтому не имеет подставки. Этнографические исследования показывают, что кремневые ружья в обиходе назывались символичным названием «даян долдурум» («подожди, дай заряжу»). Результаты проведенных исследований показывают, что в Азербайджане в XVIII -нач. XIX вв. применялось два типа пистолетов. Оба типа можно рассмотреть на основании настенных росписей, рисунков путешественников, военных заметок и музейных. экземпляров. Один из пистолетов, относящийся к первому типу, был в свое время передан в Музей Истории Азербайджана. Он состоял из ствола и ложи. Ствол представлял собой стальную трубу с расширяющимся концом и крепился на ложе в казенной части шурупом, а в ствольной части специальной накладкой из тонкого листового железа. Ложа была сделана из твердого дерева, причем приклад напоминал приклад ружья и имел резко очерченные контуры. Ствол был фактически утоплен в ложе. Накладка, крепившая ствол к ложе, имела желоб для крепления шомпола. В месте соединения казенной части ствола с ложей укреплялся замок. Замок крепился замочными винтами.
-
«Даян долдурум» или ружья и пистолеты XVIII-XIX вв. в Азербайджане Нармина Амирбекова Как показывают многочисленные письменные, иллюстративные и материальные источники, на вооружении азербайджанских воинов конца XVIII- нач. XIX вв. имелось огнестрельное оружие. Сведения источников позволяют не только фиксировать факт применения этого оружия, но и определить его типы, разновидности, представить тактико-технические характеристики, а также выявить особенности применения огнестрельного оружия в Азербайджане. Индивидуальное огнестрельное оружие можно разделить на ружья и пистолеты. В Азербайджане применялись два типа ружей: фитильные и кремневые. Фитильные ружья, как более ранние, встречаются довольно редко, однако два фитильных ружья азербайджанской работы конца XVIII в. были в свое время переданы в Музей Истории Азербайджана. Одно из этих ружей состояло из ствола, ложи с прикладом, механизма фитиля и подставки. Ствол представлял собой 8-мигранную трубу. Причем канал ствола тоже 8-мигранен и имел прорезы. В казенной части ствола, справа, имелось запальное отверстие, по центру была припаяна прицельная планка, а на дульной части имелась мушка. Ствол был утоплен в деревянной ложе почти на три четверти. В передней части ложи, снизу, имелись два утолщения, сделанные из твердых пород дерева. Первое утолщение прямоугольной формы было предназначено для укрепления подставки. Второе утолщение каплевидной формы предназначалось для крепления одного конца ремня (второй конец ремня привязывался к стальной скобе в наиболее широкой части ложи). Ложа плавно переходила в приклад, поверхность которого не имела граней и была хорошо обработана. Подставка представляет собой винт, продетый в утолщение в передней части ложи. К винту прикреплены две сошки из дерева слабо изогнутой формы. Механизм ружья аналогичен механизму фитильных ружей других стран. Он состоит из двух пластин, одна из которых играет роль спускового крючка, а вторая — роль зажима для фитиля. Пластины соединены друг с другом посредством шарнирных соединений и размещены в выдолбленной ложе и выемке приклада.
-
Азербайджан будет крупным пайщиком разделённой Армении | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
Артик – место нахождения тюрко-христианского храма V века | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
Кто Отдал Армении Гёйчинский Махал?
-
Французские Источники: Армяне – Чужеродный для Западного Азербайджана Народ
-
Население махалов Иреванского ханства составляли тюрки | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
Уроженка Хамамлинского Района Западного Азербайджана о Детстве среди Армян
-
Жертвы Депортации из Западного Азербайджана
-
«Армяне Сказали: Увидим Азербайджанцев — убьём»
-
История Жизни Сына Беженки из Западного Азербайджана
-
Количество Женщин, Детей и Стариков Среди Зверски Замученных Армянами Азербайджанцев
-
Узнав, что я азербайджанец, меня не хотели брать в «Динамо» | ХРОНИКА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
-
Как Разделили Агбабинский Магал в Западном Азербайджане